Что известно о новой вакцине?
Доклинические исследования вакцины проходили последние три года: они показали, что вакцина даже при многократном использовании не только безопасна, но и эффективна в замедлении роста опухолей и уменьшении ее размеров. По словам Вероники Скворцовой, вакцина может применяться в лечении колоректального рака, глиобластомы, а также меланомы кожи или оболочки глаза.
Похожая вакцина от рака разрабатывается и Центром имени Гамалеи. О ее создании рассказывал директор центра Александр Гинцбург: он отметил, что препарат базируется на матричной РНК, или мРНК, и будет тестироваться на добровольцах, а сама вакцина персонифицирована, то есть создается под конкретные особенности опухоли каждого пациента.
Вакцина против рака, как и прививки от коронавируса, работает на молекулярном уровне — ее относят к классу мРНК-вакцин, которые считаются более эффективными. По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елены Артамоновой, мРНК в данном случае вводится часто прямо в лимфоузел человека: там она кодирует один или несколько пептидов, обладающих высокой иммуногенностью. «Дендритные клетки захватывают мРНК, она попадает в их цитоплазму, где становится матрицей для производства антигенных пептидов, — объясняет Артамонова. — Главная роль дендритных клеток — презентация Т-лимфоцитам чужеродных пептидов, на которые необходимо „направить“ адаптивный иммунитет».
«Использование мРНК-вакцины позволяет „нагрузить“ дендритную клетку антигенными пептидами, на которые мы хотим выработать иммунный ответ. При этом удается достичь таких концентраций пептидов, каких не позволяет получить ни один другой способ вакцинации, — раскрывает особенность работы профессор Пироговского университета. — У пациента отбирают образец опухолевой ткани, идентифицируют неоантигены, которые связаны с этой опухолью. Затем происходит подготовка персонализированной мРНК-вакцины, направленной против большого числа (до 34) высокоиммуногенных неоантигенов, характерных для конкретной опухоли конкретного пациента».
Это реально новое слово в медицине?
Вакцины против рака не новинка в медицине. Врач-онколог Ольга Гордеева обращает внимание, что, например, в США одобрена вакцина для пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы — сипулейцел-Т. Кроме того, есть ряд вакцин, которые доказанно снижают вероятность развития онкологических заболеваний. К таким относится, например, вакцина против вируса папилломы человека (снижает заболеваемость раком шейки матки и ряда других опухолей) и вируса гепатита В (снижает заболеваемость раком печени). Есть еще и БЦЖ-вакцина, которую используют при раке мочевого пузыря.
«Особенность вакцин, про которые много говорится в последнее время, в том, что они терапевтические, то есть направлены именно на лечение уже возникшего заболевания, — говорит Ольга Гордеева. — Создание таких вакцин — это очень сложный технологический процесс, поскольку каждое такое лекарство создается под каждого пациента индивидуально. Или, если быть точнее, под его опухоль. Для создания таких вакцин нужны определенные научные и технические мощности, поэтому о какой-то массовости пока говорить не приходится».
Однако не все врачи согласны с такой точкой зрения. «Персонализированная неоантигенная вакцина на мРНК-платформе — это действительно передовая технология, которую успели неплохо „обкатать“ на коронавирусной пандемии, — рассуждает Вадим Шиндяпин, член медицинского совета фонда «Не напрасно». — Сейчас ее пытаются транслировать на другие группы заболеваний, в том числе онкологические — и небезосновательно».
Как именно работает мРНК-вакцина?
Принцип работы следующий: у каждого пациента проводят секвенирование опухоли и выявляют уникальные мутации, которые создают «неправильные» белки — неоантигены. «Эти белки опухоль производит, но здоровые клетки — нет. На основе найденных мутаций создают индивидуальную „мРНК-инструкцию“, которая после введения в организм пациента заставляет его клетки синтезировать эти самые опухолевые белки в безопасных количествах, — говорит Вадим Шиндяпин. — Иммунная система распознает их как чужеродные, обучается и формирует армию Т-лимфоцитов, способных находить и уничтожать опухолевые клетки по всему организму. В отличие от классической „страшной“ химиотерапии из врачебных процедуралов, которая бьет по всем быстро делящимся клеткам, такая вакцина учит иммунитет прицельно атаковать именно рак».
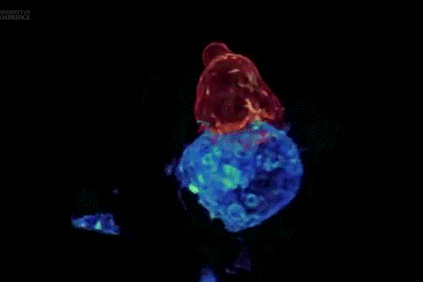
Можно ли создать универсальную вакцину от рака?
В ближайшем будущем создание вакцины от рака, которая подошла бы всем, маловероятно. Причина в том, что каждое онкологическое заболевание уникально.
«Одна из проблем, которую я вижу в этом подходе, — то, что существует достаточно большое количество белков (онкогенов и онкосупрессоров), участвующих в опухолевом процессе, — говорит хирург-онколог и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов. — Плюс опухоль постоянно подвергается мутациям — проще говоря, изменениям».
Каких результатов ждать от новой вакцины?
По словам Максима Котова, чтобы оценить эффективность любых вакцин для лечения рака (а на самом деле любого метода лечения), необходимо проведение рандомизированных клинических исследований третьей фазы, которые сравнивают экспериментальное лечение со стандартными вариантами лечения (которые подтвердили свою эффективность ранее). При этом разработку таких вакцин Котов называет перспективной, потому что у них есть два преимущества:
применение технологии с использованием платформы мРНК, которая ранее уже успешно применялась для создания вакцины от COVID-19;
создание лечебной вакцины под конкретную опухоль конкретного пациента, благодаря чему образуются максимально специфические противоопухолевые антитела.
«Поскольку терапия вакцинами относится к иммунотерапии, наибольший эффект мы ожидаем от опухолей, которые уже продемонстрировали хороший ответ на другие подтипы данного вида лечения. Это прежде всего меланома, рак легкого, рак почки и некоторые виды рака толстой кишки», — обращает внимание, в свою очередь, Ольга Гордеева. Как и Котов, она подчеркивает, что «пока у нас есть только доклинические данные, то есть полученные в лабораторных условиях», и, чтобы понять реальные результаты применения вакцины, нужно дождаться итогов лечения конкретных пациентов. «Это позволит понять, что ждать от метода в плане пользы и токсичности, — говорит Гордеева. — Последняя может значительно ограничить возможность использования этого метода лечения, даже если он будет очень эффективным».
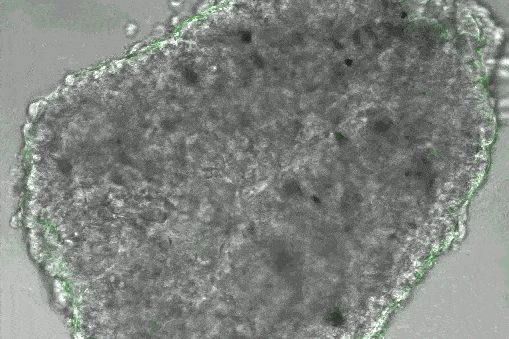
Наконец, Вадим Шиндяпин отмечает, что у мРНК-вакцин есть фундаментальное биологическое ограничение: далеко не все опухоли вырабатывают достаточное количество качественных неоантигенов. «Меланома здесь явно один из чемпионов по их количеству, потому что ее клетки накапливают огромное число мутаций, например, из-за воздействия ультрафиолета. Это создает серьезную мишень для иммунной системы», — говорит онколог.
Напротив, некоторые виды рака молочной железы, простаты или опухоли с низкой мутационной нагрузкой имеют кратно меньше мутаций — иммунитету просто не за что зацепиться. Кроме того, опухоли эволюционируют: часть клеток может потерять неоантигены или выработать механизмы подавления иммунного ответа.
«Именно поэтому сейчас активно изучают комбинации таких вакцин (да-да, аналогичные подходы — это, можно сказать, один из мировых научных трендов) с ингибиторами контрольных точек (анти-PD-1/PD-L1), которые снимают „тормоза“ с иммунитета», — приходит к выводу Шиндяпин.
Сами исследования вакцин могут идти несколько лет — например, в США на получение одобрения от Министерства по санитарному надзору вакцины T-VEC для меланомы ушло не менее пяти лет. Ученые обращают внимание, что для подробного изучения и одобрения мРНК-вакцины может потребоваться не меньше времени — вероятно, окончательный допуск для массового применения она получит лишь в 2029 году.

