«Вы бездарность», — ласковым голосом говорит кому-то Олег Рой, автор романов «Легенда о Зорге», «Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево», «Джинглики. Телохранитель» и еще сотни книг в любом жанре, который хорошо продается в данный момент. Кто получает эту оценку от мастера слова, неясно: вместе с гендиректором Музея Москвы Анной Трапковой он в финале реалити-шоу «Новое слово» определит, кто из участников достоин подписать договор с издательством «Эксмо». Пока вышла только половина выпусков передачи. На протяжении нескольких эпизодов молодые писательницы и писатели прорабатывают разные элементы своего романа — персонажи, мир, повороты — и по очереди выбывают из проекта. Раздает задания и руководит выбором проигравших писатель Константин Образцов. Его дебютный роман «Красные цепи» в 2015 году стал лауреатом премии «Рукопись года», но последующие книги не наделали шума. Теперь же он, в черной кожаной куртке и с доброй строгостью в глазах за аккуратными очками, руководит группой участников «Нового слова».

Кто еще пытался запустить реалити-шоу о писателях
Заявленная уникальность «Нового слова» — не вполне правда. Хотя точно такой формат, кажется, никто прежде не использовал, идея реалити-шоу о жизни писателей приходила в голову не одному телепродюсеру. В 2013 году в Италии стартовало шоу «Masterpiece», создатели которого обещали найти новых литературных звезд среди пяти тысяч претендентов, приславших заявки. В каждом из шести эпизодов четыре молодых соискателя отправлялись получать какой-нибудь уникальный опыт, к примеру, провести день в компании невидящего человека. Вернувшись в студию, они на глазах у зрителей начинали строчить. На написание отводилось тридцать минут, а сам текст в процессе работы проецировался на экраны. После этого жюри, ознакомившись с результатом, отсеивало двух участников. В конце оставшиеся счастливчики собирались вместе, чтобы один из них получил предложение от издательства.
«Masterpiece» с треском провалилось: первый сезон показал очень маленькие рейтинги, оставшись единственным. Скорее всего, вы никогда о нем не слышали — как и об «American Book Factory», «Publish My Book!», «Book Millionaire» и других шоу, так и не добравшихся до производства. И у провала всех этих затей есть одна очень простая причина.
Это очень одинокое ремесло, которое по большей части выглядит так: человек сидит и думает, затем сидит и читает, потом сидит и пишет. И все это происходит в одиночестве. Любая попытка «поженить» эту реальность с форматом реалити, кажется, обречена. Создатели «Masterpiece» пытались сделать все, что было в их силах — от неглупого решения предлагать писателям интересный опыт для вдохновения до драматичного таймера, отсчитывающего минуты до дедлайна, — но и это не спасло затею.
К чести создателей «Нового слова», они это понимают и изо всех сил стараются сделать шоу о том, как дюжина приятных людей работает над книгами, увлекательным. Насколько эти усилия способны привести к успеху — вопрос другой.

Как устроено «Новое слово»
Каждая серия начинается с того, что участники должны пройти нехитрый квест-задание, чтобы разгадать тему эпизода. В третьей серии они попадают в ночную библиотеку имени Ленина (правда, перед этим нам долго демонстрируют, как герои едут туда в разгар дня — за согласованностью видеоряда создатели не слишком следят), где мечутся по каталожным ящикам в поисках указания на книгу. Затем читают абзац из нее, пытаясь вместе определить, какой же элемент писательского мастерства их объединяет. «Мы считаем, что это экспозиция», — предполагает одна из героинь. «Хронотоп», — добавляет другая. «Это введение или завязка», — спорит третья. «Это обстоятельства места и времени», — уверенно заявляет четвертая. «Просто место, потому что в место входит и время», — рассуждает пятая. Наконец ведущий озвучивает верный ответ: художественный мир произведения. К этому времени прошло уже почти пятнадцать минут: треть эпизода посвящена выяснению того, о чем же будет эпизод.
Возвращаясь в главную локацию «Нового слова», герои начинают работу над творческим заданием: рассказать о персонаже через его страх или написать синопсис будущей книги. Предполагается, что каждое упражнение в итоге станет кирпичиком для будущего романа писателей. Ведущий объявляет ограничение по количеству слов — почему-то для некоторых участников оно оказывается особенно сложным. Следующие несколько минут монтажеры шоу изо всех сил пытаются сделать кинематографичным самую скучную часть писательского труда. Под жужжащие басы бростепа камера летает от одного участника к другому, кружится над рукописными заметками, переключается между напряженными лицами, пролетает над клавиатурой. Больше всего эти укачивающие пируэты напоминают «Битву экстрасенсов».

Монтаж перемежается обрывочными фрагментами интервью с участниками. В попытках выжать хоть немного драмы из трехчасовой сессии одновременного письма создатели цепляются за любой конфликт. «Вот сегодня Ника: пока я писала, она просто у меня над ухом вот так трындит по телефону», — сетует Светлана. Эта претензия так и останется самой суровой: на проект словно нарочно собрали приятных людей, которые изо всех сил стараются друг другу не мешать.
Минует три часа (на экране — две минуты), настает время сохранить результаты. «Отправляйте свой текст туда, откуда приходит вдохновение, а именно в облако», — загадочной метафорой Константин Образцов призывает участников закрыть ноутбуки, и они, трогательно волнуясь, делятся друг с другом впечатлениями.
Следующая часть шоу — выступление приглашенного эксперта. Блогер Энтони Юлай объясняет, зачем вести блог и как реагировать на хейт; клипмейкер Макс Шишкин рассказывает, как придумывал достоверные детали для мира своего «Последнего ронина» и почему иногда достоверностью можно пожертвовать. Для видео мастер-класс приходится ужимать до пяти минут, порой с комичным результатом. «Лайфхак: если вы пишете сложный персонаж, лучше всего, если у вас в жизни есть опыт, где подглядеть», — многозначительно сообщает психолог Лина Дианова, которую пару лет назад обвиняли в неэтичности и некомпетентности. «Никто, наверное, и не знал про это», — иронизируют комментаторы.
Наконец Константин Образцов выходит к авторам с разборами их текстов. На каждого участника отводится около минуты, в которую вмещается несколько слов о написанном фрагменте, цитата из него, обязательная драматичная пауза, критическая оценка и ответная реакция. Формат сорокапятиминутного выпуска не дает разгуляться — в итоге разборы звучат как разговоры о книгах, которых зритель не читал, причем разговоры эти пропустили через шредер, накромсав на дюжину саунд-байтов.
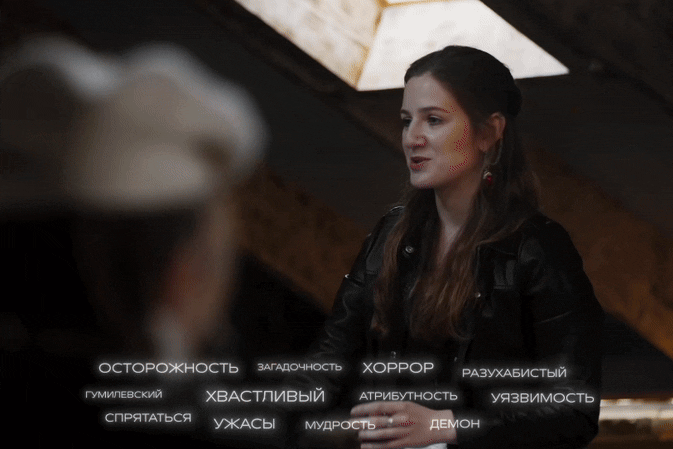
Еще одна особенность передачи связана с тем, что ее создатели будто бы не могут определиться с тем, какую тональность они предпочитают. Жанр реалити-шоу в целом предполагает театрализованную жестокость, граничащую с бесчеловечностью. Чтобы накачать сорокаминутный эпизод эмоциями, создатели придумывают конфликт — любыми возможными способами. Можно пытаться стравливать участников или на монтаже выдумывать их конфликты, выдергивая цитаты из контекста. Можно изобретать испытания, вынуждающие людей голосовать друг против друга или вступать в коалиции. Можно объединить их против ведущего, который будет играть роль бесчувственного манипулятора. Какие-то из этих приемов этичны, другие совсем нет — но «Новое слово» то не использует ни один, то в панике кидается делать их все сразу безо всякой системы.
Шоу без правил
Изначально в шоу была встроена механика исключения: каждую неделю один участник должен был покидать проект. Но тут все моментально пошло не по плану. «Я хочу дать себе шанс получше вас узнать», — заявляет ведущий в финале первого эпизода, объявляя, что никого в этот раз не выгонит. Через неделю добавляет, что после второго и третьего этапов тоже никто не уйдет — но в конце четвертого эпизода отсеять придется сразу троих. Уже в самом начале зрители понимают: никаких особенных правил в «Новом слове» нет, а те, что есть, могут двигаться произвольно. Чувствуют это и участники. Когда в финале пятой серии правила вновь меняются и проигравшего выбирают тайным голосованием, Елизавета пишет на своем бюллетене: «Оставить всех». По странному совпадению ее в итоге и выгоняют.
Ирония: рассказывая о том, как важно для писателя установить правила в собственном мире и соблюдать их, Образцов тут же начинает нарушать немногие принципы своей передачи. По-человечески его можно понять. Выполняя на проекте разом роли строгого ведущего, внимательного преподавателя и заботливого ментора, он вынужден то строить суровое лицо, то успокаивать подопечных. С учетом того что в бешеном монтаже шоу между этими режимами Образцов переключается раз в несколько секунд, он просто не в состоянии стать стержнем, на котором будет держаться «Новое слово». Вообще-то у него есть соведущая Юлия Яковлева, с которой они могли бы разыграть хрестоматийную пару доброго и злого ведущих, но ее роль чаще всего сводится к роли молчаливой помощницы, которая все чаще сидит в углу или выполняет побочные поручения вроде представления гостя-эксперта.
Единственный оставшийся элемент жанра, на котором «Новое слово» хоть как-то может выехать, — это участники. Тут нужно отдать должное: организаторы действительно собрали дюжину приятных людей, за которыми любопытно следить, хотя об их литературных талантах из опубликованных эпизодов узнать можно немного. Принципы, по которым выбраны именно эти люди, неясны: авторы с пятизначными тиражами тут соседствуют с дебютантами, не успевшими написать ничего. Самая опытная участница проекта, которую соратницы и сами называют фавориткой, — Анастасия, в 2022 году выпустившая роман о взаимоотношениях Ивана Грозного и Федора Басманова под удивительным названием «Гойда». Рядом с ней — Ангелина, которая сама еще не знает, о чем писать: «Мне недавно исполнилось двадцать. Хочу написать свою книгу по чему-то, связанному с психологией, саморазвитием, самопознанием». Насколько разумно устраивать соревнования между авторами такого разного уровня — большой вопрос.
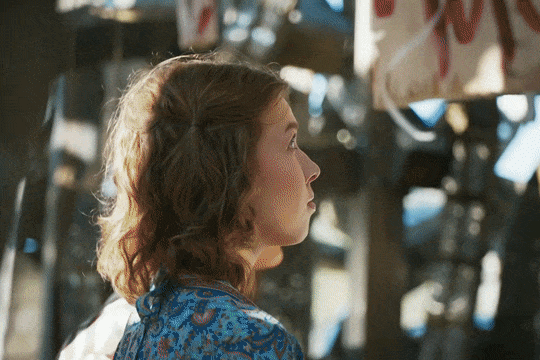
В итоге «Новое слово» нельзя назвать ни ошеломительным успехом, ни оглушительным провалом. Да, некоторым его создателям, кажется, наплевать на собственное детище: шутка ли, уже в первой минуте первого выпуска крупный план с чьей-то клавиатурой по ошибке показывают в зеркальном отражении. Но сама структура испытаний выглядит внятной и может принести пользу участникам, если не развлечь зрителей. Да, среди экспертов не нашлось ни одного заметного писателя, но это компенсируют люди из других сфер: на каждого Александра Цыпкина или Олега Роя приходятся сотрудники издательства или опытные киношники. Но главное не это, а то, что казалось очевидным еще до выхода первой серии проекта. Есть темы, которые просто по сути своей не подходят формату реалити-шоу, и одна из них — писательское мастерство. «Новое слово» боится показаться слишком содержательным или слишком развлекательным, и в итоге ему не удается ни то ни другое.
Хотя «первое реалити-шоу о писателях» не было первым, не будет оно и последним. В 2026 году стартует проект «America’s Next Great Author»: там молодым писателям придется за минуту «продать» идею своей книги жюри, финалисты на месяц поселятся под одной крышей, где будут работать над романами, а также «столкнутся с испытаниями внутреннего самоанализа вместе со знаменитостями-наставниками». Победителю обещают договор с издательством и щедрый аванс. Получится ли у создателей сломать проклятие реалити-шоу о профессии, в которой так мало шоу, неизвестно.
