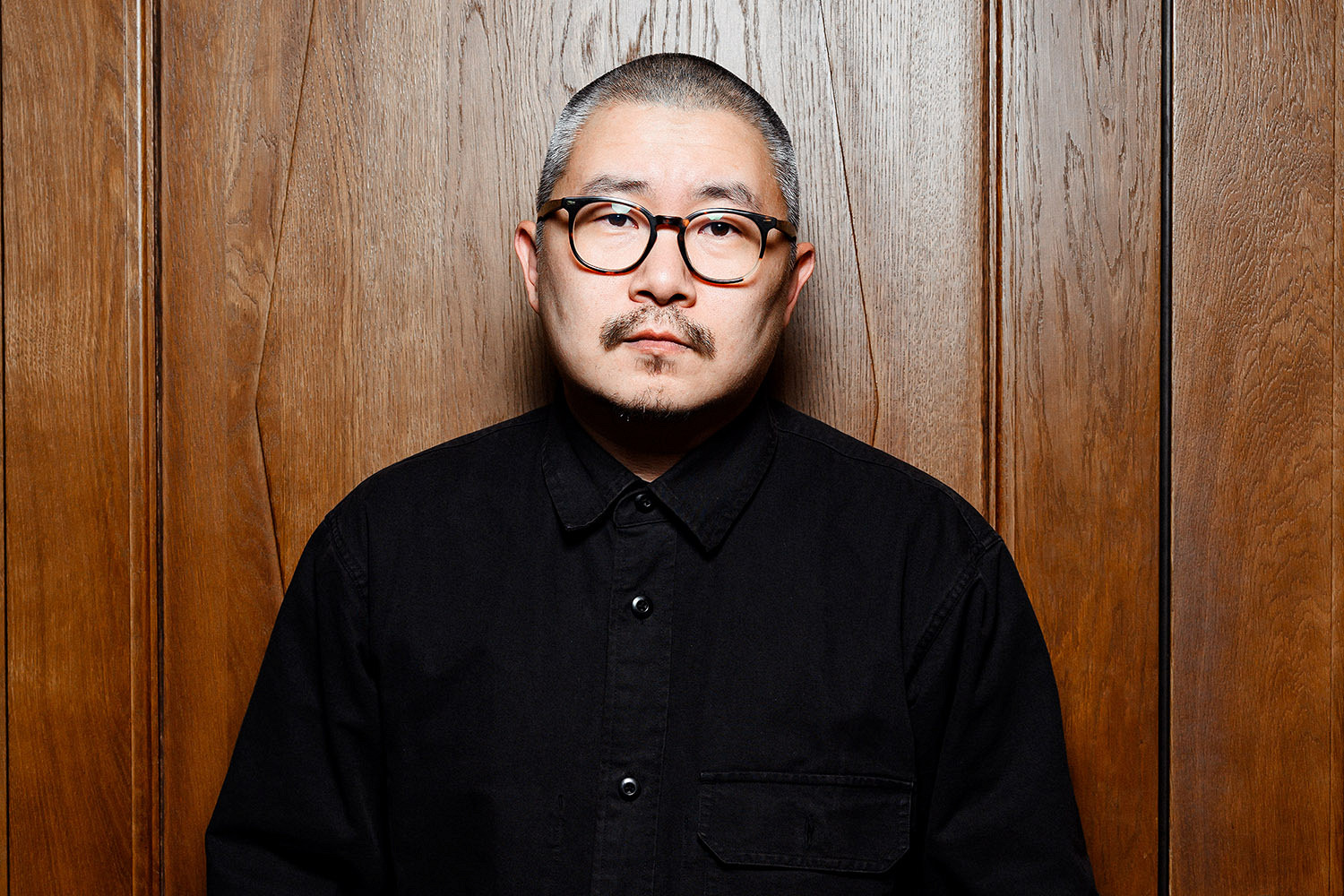О том, нужно ли кинорежиссеру иметь свой стиль
— «Нуучча» совершенно не похожа на «Кончится лето». Поэтому первый вопрос: чем ты руководствуешься в выборе истории? Желанием не повторяться?
— Если честно, не знаю, как это происходит. Меня что‑то дергает, бегут мурашки, и я понимаю: блин, это моя история, я обязан ее рассказать! Вообще, я сценарно мыслю, поэтому сразу начинаю думать сценами: как писать, о чем, какой смысл у истории. И если она во мне сильно отзывается, то продолжается сама собой. Я в этот момент не думаю о киноязыке, как мы будем снимать, кто будет играть, — просто сочиняю и пишу. А уже потом, когда появляется рабочий драфт — в моем случае третий, четвертый или пятый, — начинаю размышлять, какой киноязык подойдет, в каком темпе рассказывать: может, так, а может, этак. Для меня это всегда поиск.
Вот сейчас я, допустим, написал сценарий. Все жутко воодушевлены, говорят: «Давай, давай!» А я сижу и думаю: как ее делать? Знаешь, я больше всего не люблю, когда авторы выпендриваются или замыкаются в себе. Мне кажется, Уэс Андерсон — абсолютный заложник собственного стиля. Дай ему «Анатомию падения» — и что будет? Он придумал свой стиль — кому‑то он нравится, кому‑то нет, это дело вкуса, — но он из этого стиля, из этих рамок не может никуда вырваться. Это самый яркий пример. Есть много авторов, которые придумали для себя эту клетку и сидят в ней.
— Получается, самое страшное, что может случиться с режиссером, — стать заложником собственного стиля?
— Может быть, не самое страшное. Самое страшное, наверное, вообще не снимать кино. Но это одна из проблем, мне кажется. Может, я не прав. С другой стороны, почему‑то в фильмах Уэса Андерсона это острее всего чувствуется. Потому что когда смотришь Хон Сан Су, то думаешь: человек себя очень комфортно чувствует, ему больше ничего не надо. Или тот же Аки Каурисмяки. Так он мыслит, так видит мир — и это классно! А у Андерсона это действительно стало клеткой.
Я никогда не думал о том, есть ли у меня свой стиль, и даже не стараюсь искать его (смеется). Просто не понимаю: зачем? Как будто меня это ограничивает. Наоборот, знаешь… каждый раз, когда мы заканчиваем съемки фильма, идет последняя смена, я ухожу, сажусь, осмысливаю, что произошло, и думаю: «Господи, какой ужас! Сценарий был лучше. Я все испортил».
Потом, спустя время, пересматриваю фильм на монтаже и провожу анализ: почему так произошло? Почему эта сцена получилась такой плохой? И меня не покидает мысль, что виноват только я, поскольку я режиссер и должен был понять, что здесь что‑то неправильно, переделать. Это только моя ответственность. И у меня пока нет ни одного проекта, которым я был бы абсолютно доволен. Нужно стараться делать лучше, расти драматургически, режиссерски, ментально. А если я придумаю себе стилистику, то, наверное, не буду развиваться.

— Просто все режиссеры как будто гонятся за узнаваемым почерком, чтобы выделиться на общем фоне. Чтобы когда ты смотрел кино, то сразу понял: это точно Уэс Андерсон, а это — Мартин Скорсезе…
— Мне кажется, это устарело. Я вижу, что в современном мире уже нет жанрового кино. Чистого жанра. Так же как мы видим, что не сильно работает очень авторское кино. Все стало симбиотическим. То же самое происходит и в музыке. Все смешивается друг с другом. Идет поиск нового. Мне кажется, это грустно, когда появляются русские Тарантино. И что?
О жанровом кино, написании сценариев и наемной режиссуре
— Следующий вопрос ты буквально снял у меня с языка. Чем, на мой взгляд, хорош фильм «Кончится лето», так этом тем, что в нем намешано много всего: это и семейная драма, и остросюжетный триллер, и современный истерн с остросоциальным комментарием, и отчасти боевик. Словом, мультижанровое кино. Получается, тебе скучно делать что‑то в рамках одного жанра, да?
— Слушай, нет. Я даже сам не знаю, в каком жанре работаю. То есть я для себя никогда не ставлю рамку. Когда начинаю писать сценарий, я не знаю, куда это все вырулит. Стараюсь не писать синопсис, не делать схемы, наброски. Просто сажусь и пишу — от и до. Сам удивляюсь тому, какие ко мне приходят сцены, решения. Я не преследую цель так развернуть [сюжет], чтобы всех удивить. Оно само собой получается. С «Кончится лето» произошло именно так. Почему? Не знаю. Мне кажется, время и реальность на нас очень сильно повлияли.
У меня сейчас ситуация: мне предложили снять сериал, достаточно нормально написанный. Я его честно прочитал и говорю: «Ребята, я не знаю, зачем я вам здесь нужен. Меня не трогает ваша тема. Она хорошая, она интересная, но лично меня она не волнует. И, соответственно, если она меня не волнует, то я сниму это, ну знаешь, как ремесленник. Однако это будет фальшиво — и все почувствуют фальшь. Оно нам надо? Мне кажется, нет. А если думать с точки зрения заработка, ну пока же живу, можно и без этого заработка».
— Мне кажется, российская киноиндустрия на девяносто процентов из таких проектов состоит, когда кто‑то просто выполняет заказ, как наемный режиссер, ремесленник…
— И это нормально. Я тоже не топлю за то, что все должны быть авторскими режиссерами. Есть, условно говоря, продюсерские проекты для заработка денег. Есть множество примеров режиссеров, которые сняли прекраснейшие первые фильмы, высказались по поводу того, что у них накопилось, а теперь им больше нечего делать. И что, им теперь уходить из профессии? Они начинают искать себя, выполнять разную работу, развивать профессиональный навык рассказчика. Это тоже нормально. Я вообще никого не осуждаю и считаю, например, что Сарик Андреасян — абсолютно авторский режиссер. Он автор своих фильмов. Это факт.
— Да, просто никто не говорил, что автор должен быть хорошим. Кстати, когда я на кинофестивале «Пилот-2025» посмотрел первый эпизод сериала «Дыши» Анны Кузнецовой, мне показалось, что он сделан абсолютно в ее стиле. Что это не какая‑то наемная работа, а она вложилась в него как автор.
— Да, это требует огромных усилий. Но Аня все-таки [еще на «Каникулах»] работала со сценаристом — она умеет это делать. А у меня как‑то не получается. Я пробовал себе сценариста найти, но ничего не вышло. Все заканчивалось тем, что — ладно, сам напишу. У меня, видимо, такой блок появился, что, когда я читаю чужой сценарий, у меня буквы даже так не складываются, как там написано. Вероятно, для меня важнее пока писать самому. Но это тоже не самоцель! Я бы хотел найти себе крутого сценариста, с которым работал бы в симбиозе. Но жизнь пока складывается так, что если хочешь, чтобы было хорошо, — обслужи себя сам.

— А есть жанр, за который ты бы никогда не взялся, потому что… ну не твое это?
— Неа. Так получилось, что в детстве я много смотрел кино. Вообще все — от «Голого пистолета» до Бергмана. У меня такая мешанина в голове, мне нравится все. Я могу честно одновременно смотреть Marvel, DC и какого‑нибудь Хон Сан Су — и там и там находить плюсы. То же самое с жанрами. Интересно вообще все. Главное, чтобы цепляло.
О том, как работать в режиссерском тандеме
— Мне всегда было интересно, как режиссеры работают в тандеме — причем не сестры, как Вачовски, и не братья, наподобие Коэнов, а именно не родственники. В теории авторского кино ведь принято считать, что фильм, несмотря на то что это коллективное искусство, всегда видение одного человека, а тут получается сразу двух.
Расскажи, как ты выстраивал работу со своим сорежиссером Максимом Арбугаевым? Как вы распределяли полномочия? Как решали споры, если они были? Как, в конце концов, сообща работали с актерами?
— Изначально планировалось, что кино все-таки будет снимать Макс, а я выступлю в качестве сценариста. Но в процессе [работы] Макс неоднократно предлагал: «Давай вместе снимем. Ты со своим опытом, я со своим». Я до последнего отказывался, говорил: «Ну это как‑то странно». Но когда уже дошло до предела, понял, что нам нужно сильно на берегу договориться о том, как мы распределяем обязанности, как будет строиться наша работа, какое у нас видение. Нам нужно было много всего обсудить.
А Макс оказался очень на меня похож в том смысле, что тоже заранее обо всем хотел договориться. Да, у нас будут конфликты, но давай все решать словами, не обижаясь друг на друга, учиться друг у друга.
Макс говорит: «Я бы с удовольствием встал за камеру. Взял бы на себя визуальную часть, визуальный язык». Я ему: «Супер, давай! А я тогда буду работать с актерами и сценарием, потому что мне это больше нравится». У каждого режиссера свои загоны. Я, допустим, абсолютно не визуальный человек и нарочито ухожу от этого. Макс больше визуал. Он какие‑то вещи предлагал прямо настолько красивые, что нарушалась актерская целостность. Артисты начинают ходить красиво только для этого кадра. Они не живут, как это должно быть в жизни. И Макс, когда это осознал, говорит: «Да, ты прав». Нам что важнее: красота природы или человека? Человек. Все, тогда и камера должна следовать за человеком.
Автопортрет Владимира Мункуева, снятый специально для «Афиши Daily»
— В общем, мы такие вещи прямо проговаривали. Да, у нас многие моменты не получились в силу производства, но… Мы как раз тоже обсуждали проблемы современного игрового российского кино. Все утрируется. Ты чувствуешь отношение автора. Есть фильмы, где автор прямо на тебя давит: смотри, как страшно. А есть наоборот. Мы друг другу говорили: как мы хотим? Мы хотим это легко рассказать? Или кого‑то попугать? Или, наоборот, посмотреть отстраненным взглядом? И так мы к каждой сцене подходили. Для меня это была большая учеба. Потому что я, как любой режиссер, эгоист, а тут научился слушать чужое мнение. То же самое, наверное, и с Максом произошло. Честно, я сначала думал, что мы поссоримся. Грустно, конечно, когда во время работы теряешь друга. Но оказалось, что нет. Мы с большим уважением друг к другу относились. Наверное, только поэтому получилось что‑то сделать.
— А как вы с Максимом придумали визуальный язык фильма? Может быть, от каких‑то референсов отталкивались?
— Я говорю: подожди, что мы будем обсуждать камеру, оптику, локацию, когда нам надо обсудить, о чем мы хотим снять. Давай сперва обсудим сцену вообще. Не важно, как она снята, кто играет, важно — о чем это должно быть. Для меня лично это важнее поиска киноязыка. Макс это услышал, и мы действительно очень долго просто обсуждали драматургический смысл сцены. Макс хотел снимать сперва очень близко к людям, рассмотреть этот мир, этих людей, а уже потом постепенно отдаляться и уходить в отстраненность. Прекрасно, потому что драматургически так оно и было написано.
— Я тоже заметил, что в первой половине фильма камера как будто приклеена к героям. Она более подвижная, что ли, а во второй части больше пейзажей, в которых персонажи растворяются.
— Да, это драматургически, в диалогах так было заложено. В начале много-много слов, суеты, а чем дальше, тем меньше слов, они превращаются в рубленые фразы. Макс это почувствовал, потому что он не просто оператор, но и режиссер. Это абсолютно режиссерское решение. А все остальное мы потом обсуждали с точки зрения света. Мне всегда нравится, как видит человеческий глаз. Свет для человеческого глаза ложится вот так. Давай не утрировать свет. Зачем делать неоновые стены и вообще все стилизовать? Макс, как документалист, меня тоже в этом сильно поддержал. Мы решили входить в реальные квартиры, реальные локации, чтобы все было настоящим. Просто ходили по всем поселкам, договаривались с людьми, потому что эту реальность не придумать.
Допустим, на Севере, когда мы снимали тетю Марину в ее доме, просто зашли к женщине, а у нее на кухне наклеены обрывки обоев, на которых нарисован Париж. Рядом берег моря Лаптевых, и ты такой: прекрасно же! Давайте здесь и снимем.
О темпоритме и поворотной сцене в «Кончится лето»
— Мне кажется, важное свойство искусства — это ритм. То, как режиссер ускоряет и замедляет историю, грубо говоря, то, как он переключает скорости в сюжете. Расскажи, как вы собирали «Кончится лето» на монтаже?
— Это все сразу было в сценарии. Я понимал, что нам сначала нужно пожить с героями. Хотелось посмотреть на их поселок, поразглядывать постельное белье, на котором они спят, увидеть, где они работают. А потом потихонечку начинается ограбление — и сюжет вдруг начинает скакать галопом. Но это ограбление приведет к тому, что после него захочется постоять, отдышаться, осознать, что вообще произошло. А когда герои захотят обернуться, окажется, что они уже убежали [далеко от дома], они в совершенно другом месте.

Я это прямо в сценарий закладывал и вообще так, в принципе, продолжаю писать. Похожим образом было в «Нуучче». Я понимал, что первые пятнадцать минут хочу провести без слов. Просто, опять же, понаблюдать за этим миром, привыкнуть к героям, а потом потихонечку начать рассказывать, что же в нем происходит. А когда ты становишься увлечен рассказом, начать сбавлять темп.
— Во время просмотра «Кончится лето» сложилось ощущение, что вы в середине фильма так взвинтили напряжение, что дальше его поднимать уже было некуда, — и сцена с отцом главных героев, который берется за ружье, это такая эмоциональная разрядка, которая на кинофестивале «Маяк-2024» и на пресс-показе в Москве внезапно вылилась в аплодисменты. Мне кажется, они были связаны не с кровожадностью зрителей (хотя не исключаю, что такое тоже возможно), а с накопившимся в них напряжением, которое получило такой выхлоп.
— Я после премьеры поездил по стране и понаблюдал именно за этим моментом. Интересно, что Якутск и вообще вся русская провинция на этом моменте не хлопает. Она очень внимательно сидит и молча смотрит. А уже потом, когда мы вышли на встречу со зрителями, они сказали: «Это очень похоже на нашу жизнь». То есть это включенный зритель.
Помню, еще волновался перед показом в Якутске, потому что наш якутский зритель, он… Вообще, почему существует якутское кино? Потому что существует якутский зритель. И он такой, как сказать… Например, в порядке нормы, если после показа кто‑то встанет и заметит: «Слушайте, я бы вообще все иначе сделал, должно быть по-другому, так в жизни не бывает». Зная это, я волновался. Однако большинство зрителей говорили: да, это близко к жизни. Получается, [наш фильм] про узнавание реальности, считывание контекста. А в Москве есть какая‑то… Я читал рецензии критиков после премьеры, которые писали: «Ну, это где‑то там в Якутии происходит, где время застыло». Думаешь: боже мой! Люди смотрят это кино так, словно его действие происходит на другой планете.
Об Алексее Балабанове, режиссерах-ориентирах и якутском кино
— И «Нууччу», и «Кончится лето» сравнивали с фильмами Алексея Балабанова. «Кончится лето», понятно, с «Братьями», а «Нууччу» с «Кочегаром», потому что у вас один и тот же литературный материал в основе: рассказ «Хайлак» польского этнографа Вацлава Серошевского. А ты сам как к Балабанову относишься?
— К Балабанову-то я хорошо отношусь. Но всегда говорю, что, выбирая между Балабановым и Германом-старшим, выберу Германа, просто по своему вкусу. Мне кажется, тут есть какая‑то странная, наносная штука. Видимо, как кинематографисты нашего толка не умеют работать без референсов (а опираясь на референсы, мы никогда не придумываем ничего нового), то же самое происходит и с кинокритиками. Они также берут референсы из того, что видели, и наклеивают их. А оно просто бывает схоже стилистически.

У Балабанова документальная реальность, такая же была у Германа-старшего. Балабанов просто брал живой мир, который существовал, и рассказывал в нем историю. Это его главная отличительная черта. Всегда очень кропотливая работа художников, взять «Груз 200» или «Морфий». Ты смотришь, а там все в рамках реализма. И так много людей работает в мире. Мне кажется, Балабанов в этом, а в остальном они абсолютно разные.
— А есть ли у тебя режиссеры-ориентиры, на которых хотелось бы равняться?
— Их такое огромное количество, даже не режиссеров, а просто фильмов, которые смотришь… Меня всегда поражает в моем любимом авторском кино то, как люди мыслят и как они рассказывают об этом — какие‑нибудь Сэм Пекинпа и Глеб Панфилов, которые стоят абсолютно не рядом и каждый по-своему уникален. Я больше всего предвзят, когда смотрю кино, в котором нет мыслей и смысла.
— О якутском кинобуме, как самом, пожалуй, ярком явлении децентрализации российского кинематографа, страна узнала в начале десятых. Но ты в одном интервью говорил, что он появился еще в середине нулевых. Не могу не спросить, как, на твой взгляд, за это время изменились якутский кинематограф и киноиндустрия?
— В якутском авторском кино есть уникальный случай Димы Давыдова. Бюджет его первых фильмов был миллион рублей, а в прокате они зарабатывали два — это вышел в ноль. Это успех. Хотя бы так. И, мне кажется, это честно. Так и должно происходить. Если мы говорим не про студийные кино и заработок. Но сейчас я вижу, что происходит крен в другую сторону. Еще вижу, что все это стало немножко болотцем. Одни и те же темы изжевываются, профессиональный навык не растет, кадров все так же не хватает, и я не знаю, как решать эту проблему.
Вот встречался с друзьями. Правительство республики кричит о том, что мы один из главных регионов по кино в стране. А в Якутии есть только одна профессиональная камера. Все остальное парни продолжают снимать на фотоаппараты, на что есть. Получается, это производство вопреки. Просто чудо, что это все еще существует. При этом я говорю: ребята, нам нужно расти в первую очередь драматургически. Мне очень не нравится, что выработались шаблоны, по которым снимают [одно и то же]. Очень мало авторов, которые придумывают нечто новое. Но так, наверное, во всем мире.

— А какой самый популярный жанр в Якутии? Наверное, как и во всей России, комедии?
— Да, но сейчас один байопик про паралимпийскую спортсменку собрал. Когда мы говорим про кассовое кино, там авторы действительно делают все с учетом местного зрителя, как и во всей России. Но когда ориентируешься только на массового зрителя, сам понимаешь, какой продукт получается. Деньги заработали? Да. А вот дало ли это что‑то индустрии? Мы не вырастем, пока мы не начнем честно говорить про себя. У нас все равно есть такое, что люди приукрашивают собственную реальность, хотят выставить себя как на параде в хорошем обличье. Но это уже комплексы. Мне кажется, нужно просто расти духовно, не стесняясь честно о себе рассказывать.
— Ну и последний вопрос. Поскольку наш спецпроект все-таки про профессиональные лайфхаки, можешь рассказать, как начинающему режиссеру найти общий язык с продюсером?
— О, этого никто не знает! Я тут до сих пор борюсь. Это какой‑то непостижимый труд.